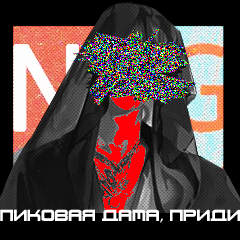— Ага... — Только что он хотел сделать с этой информацией?
Столько всего... Разве возможно осмыслить, разве возможно принять? Но он был там, и это даже реальнее, чем то, что он сейчас здесь.
Тёплые объятия снимают оторопь, как поцелуй любви — злые чары. Широкая ладонь, укрывшая иссечённую невидимыми шрамами грудь, гладит и утешает, но успокоить рвущееся сердечко все же не способна. Финисту не страшно и вовсе не хочется отстраниться, напротив — хочет вплавиться в это тело, занять у него силу и уверенность, чтобы хоть на минуту перестать чувствовать себя таким ничтожно маленьким и жалким. Он прижимается ближе, пытаясь расслабиться, но напряжение не уходит — оно засело в каждой клеточке, как какая-то зараза... Да так и есть, он отравлен чужим ядом, он подцепил что-то от того рыжего урода, и это не выцарапать, как грязь из-под ногтей, не вытравить, как блох, — семя проросло, его корни оплели и присвоили всё то, что Финист считал своим.
«Почему он так смотрит?..»
Рука поднимается к лицу, пальцы осторожно ползут по щеке... Дальше скулы не идут, замирают, ощупывая вздувшиеся горячие края дыры — гигантской пропасти, бездонной ямы, в которую лучше не соваться, иначе она затянет его внутрь самого себя. Она не прикрыта, и неудивительно, что Крысолов не может оторвать от неё взгляд. Хочется тут же спрятаться, скрыть своё изуродованное лицо, но прятаться ему уже негде — он и так в самом безопасном месте, что знает.
— Мы... У нас теперь три глаза на троих, — и всё же прячется за глупой шуткой, но забывает улыбнуться.
Он переполнен. Всё это — слишком. И он хочет избавиться от этого, сбросить, как груз, который некуда и незачем нести, но... Но как о таком расскажешь? Стоит ли?.. Только ведь это Крысолов — он не посмеётся, не отмахнётся, не скажет, что тот сам виноват, и если не ему, то кому вообще можно довериться?
— Я... Они... Забрали меня сразу после заказа. Оглушили шокером, я не смог применить способность, — начать оказалось легко. — Связали, отвезли на склад. Я смутно помню саму поездку... Я сперва даже не понял, кто и за что.
И вновь замельтешили перед глазами кадры событий — жуткая, неприятная, обрывочная хроника. Они одновременно и далёкие видения — что-то из давно забытого прошлого, но в то же время такие реальные, будто всё это здесь и сейчас.
— Там был он, — Финист замер, потом покивал самому себе — был такой, да. — Рыжий, в деловом костюмчике.
Он говорит об этом сухо и скупо, так, как обычно докладывает что-то Веретену или как пишет отчёт. И так, конечно, немного проще, так можно представить, что он просто свидетель всего этого кошмара.
— Он велел рассказывать... Ничего конкретного, но думаю, понятно, о чём речь — я где-то спалился... Я думал, это будет допрос. Что они что-то заподозрили, но... Я не знаю, была ли у этого какая-то цель.
Все те слова и все те вопросы — имели ли они смысл? Или изначально того монстра, о котором не расскажут и в самых страшных сказках, послали только для того, чтобы расправиться с ним и наказать?
— Я плёл какую-то хуйню, если честно... Не знаю, может, если бы я подобрал слова правильно, если бы что-то придумал, — пальцы сжались в кулаки, но тут же бессильно расслабились. — Но не знаю, поменяло бы это что-то... Он будто бы и не хотел ничего знать. Будто бы всё, что ему было нужно...
А и правда, что ему было нужно? Мерзкая улыбочка эта...
— Кажется, ему было весело... Такой довольный, будто выиграл в чертову лотерею, — в голос просочился яд, губы в отвращении скривились.
Ему не хочется вдаваться в подробности. Все эти пинки и таскание за волосы — больно, но в сути детский сад, он не расклеился бы от такого, это не то, что смогло бы его по-настоящему напугать. Он мог бы даже посмеяться над этим сейчас — ну, честное слово, за косички подергал, как мальчишка-младшеклассник. Хи-хи. Ха-ха.
Но всё же было то, о чём сказать совсем не просто, но то, что он не хочет, не может тащить один. То, к чему и приближаться-то страшно. И эмоции, притупленные, как от наркоза, начали оттаивать и просыпаться. Они задрожали внутри, передались телу — в руки, в горло, сердцу. С каждой новой прокрученной в голове деталью, с каждым новым ярким кадром, с ощущением дождевых капель на лице, с бетонной крошкой под ногтями...
— Потом он... Я... — рассказ стал расплываться, а он сам рассыпаться, как слишком сухой песок на пляже, из которого не построить замка, пока не добавишь воды. — Он сел мне на грудь и... Воткнул блядский кухонный нож мне в глаз, — проталкивать слова всё сложнее, и теперь он говорит тише, почти шёпотом.
Он часто задышал, как после забега, — эту боль не забыть, она пронзила его, как равнодушная игла энтомолога пронзает бабочку, и вот он теперь висит распятый, и даже если вытащить иглу, то след от неё и страх перед ней останется навсегда. Даже сейчас, притихшая от лекарств глазница заныла, заскулила от ненужных воспоминаний. Тело вздрогнуло и сжалось, пытаясь укрыться, — зачем ты всё это повторяешь, а? Зачем проходишь через это снова? Такое нужно вычеркнуть, выбросить...
— А потом... — рот иссох, в горле встал тугой ком. Он сглотнул его раз, второй, третий. — Потом... Выскребал... Как ложкой яйцо всмятку...
Вспышки в голове — в них толком ничего не разобрать, там ощущения, которые не опишешь, которые не с чем сравнить, — такое можно только знать и чувствовать, но знать и чувствовать которые никто в здравом уме не захочет. И это как чёрная метка отделит его от других — не от всех, но от многих.
— И... Тогда он...
«Давай. Просто скажи уже».
— Он достал член и выебал меня в глазницу.
Сказанное на одном дыхании повисло в тишине. Финист замер — замерла и грудь, не способная ни втянуть, ни вытолкнуть воздух. Всё и сразу набросилось на него — все эти видения, все эти чувства, они стремились разорвать то, что от него осталось, утянуть обратно в эту бездну отчаяния и немыслимой агонии, туда, где воняло кровью и мускусом, туда, где член уёбка остервенело вбивался в его голову.
От этих воспоминаний, от этого напряжения голова его надулась, раскраснелась, запульсировала — вот-вот, кажется, лопнет, как шарик. Муть подступила к глотке — желание исторгнуть всё это из себя, избавиться, как организм обычно избавляется от порченной еды. Ах, если бы это было так просто... Всё повторялось, всё это суждено проживать снова и снова, до полного опустошения, — он знает, оно никуда не уйдёт, не испарится само по себе, не исчезнет от щелчка пальцев или по мановению волшебной палочки.
Он сжался в тугой комочек, вцепился в руку Крысолова так, будто можно отсыпать ему своей боли и попросить принять вместо него. От беззвучных рыданий затряслась, задрожала грудь. С подбородка сорвалась слезинка. Потребовалось время, чтобы продолжить.
— Я смутно помню, что было дальше... Отрывками...
«Это очень интересно: мошонка — это просто сросшиеся половые губы, так формируется плод, но и их тоже можно разделить...» — но всё же помнит больше, чем хотел.
— Он бы и дальше... Я... — и вот то, что повергает его в смятение и ужас, то, на что, казалось, он не был способен, но то, что он совершил вопреки собственным убеждениям. — Он, наверное, думал, что я уже ничего не смогу сделать... Оставил нож рядом...
Густой и горячий, на контрасте с собственным телом, алый поток заливал его. Обезумевшая рука, не своя, а чья-то, поднималась и опускалась с единственной целью — избавить мир от этого чудовища, избавить себя от дальнейших мучений, но это... Это неправильно. Он убил человека — такое нельзя изменить или исправить.
— Господи, Крыс, что теперь будет? Я... Убил его.
Отредактировано Finist (14.11.2025 16:07:01)